Новости
Заглянуть в «черный ящик»: как ИИ учат быть понятным человеку

Начну с реального случая: в 2023 году американский юрист Стивен Шварц использовал ChatGPT для подготовки судебного иска. Система уверенно создала юридический документ с многочисленными ссылками на прецеденты. С одним нюансом — все цитируемые дела оказались полностью выдуманными. Более того, когда юрист попросил ChatGPT проверить достоверность источников, система с той же уверенностью «подтвердила» подлинность несуществующих судебных решений.
И это не единичный случай. Современные нейронные сети стали настолько сложными, что мы перестали понимать, как они принимают решения. Почему беспилотный автомобиль внезапно поворачивает не туда? По какой причине система медицинской диагностики пропустила опухоль на рентгеновском снимке? В таких критических случаях простого «доверия» к ИИ недостаточно — важно понимать, почему система принимает то или иное решение. Именно об этом и поговорим в статье.
Почему нам нужны объяснимые нейросети
Когда речь заходит об интерпретируемости моделей машинного обучения, скептики обычно спрашивают: «Зачем вообще заглядывать в черный ящик, если он работает?». Логика понятна: хочешь прозрачности — бери простые линейные модели. Нужна точность — используй многослойные трансформеры и просто не мешай им делать свое дело.
Но в реальности всё не так просто. Возьмем, к примеру, медицинскую диагностику. Исследования показали, что сверточные нейронные сети (CNN), анализируя рентгеновские снимки, порой опираются на совершенно неожиданные паттерны: например, определяют пневмонию не по состоянию легких, а по метаданным больницы на снимке. Без инструментов интерпретации мы рискуем развернуть системы, чьи решения основаны на ложных корреляциях, а не на причинно-следственных связях.

К тому же исследования в области Explainable AI (XAI) демонстрируют, что противоречие между точностью и интерпретируемостью часто надуманное. Например, Self-Explaining Neural Networks (SENN) — архитектуры, которые не просто делают предсказания, а сразу сопровождают их понятными человеку объяснениями, разбивая сложное решение на простые концепты. А методы вроде LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) и SHAP (SHapley Additive exPlanations) позволяют анализировать поведение даже самых сложных черных ящиков, не теряя в точности.
Но дело не только в технической надежности. В эпоху, когда ИИ-системы всё чаще принимают критически важные решения, прозрачность становится юридическим требованием. Принятый в ЕС AI Act, вступающий в силу поэтапно, прямо обязывает: системы «высокого риска» должны быть спроектированы так, чтобы человек мог корректно интерпретировать их выводы (статья 14, пункт 4c). Проще говоря, без объяснимости многие ML-системы просто не пройдут регуляторный фильтр.
Более того, интерпретируемый ИИ становится инструментом научного познания. Он помогает исследователям находить скрытые закономерности в сложных физических процессах, понимать, какие факторы влияют на ход химических реакций, и даже проектировать новые материалы. А в гуманитарных науках его применяют для исследования языковых структур — например, анализ языковых моделей уже помог лингвистам обнаружить неизвестные ранее грамматические паттерны.
Интерпретируемость vs объяснимость: в чем разница?

В мире ML «интерпретируемость» и «объяснимость» часто используют как синонимы, и даже в научных статьях можно встретить путаницу, поскольку единого мнения касательно этих определений пока нет. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. И эти детали могут оказаться критически важными, когда речь идет о внедрении ИИ-систем в реальные приложения.
Представьте, что у вас есть два ящика. Первый — прозрачная конструкция из стекла, где видны все шестеренки и механизмы. Второй — непроницаемый куб, но с подробной инструкцией, объясняющей его работу. Это довольно точная аналогия разницы между интерпретируемостью и объяснимостью в машинном обучении.
Интерпретируемость — это внутреннее свойство модели, которое закладывается на этапе её проектирования. Такая модель позволяет человеку понять, как именно она работает: какие признаки использует, какие у нее внутренние состояния, почему она принимает те или иные решения. Это как раз та самая прозрачная конструкция — вы можете проследить весь путь от входных данных до итогового результата.

Классический пример — линейная регрессия. Взглянув на коэффициенты при признаках, мы сразу видим, какие факторы и насколько сильно влияют на предсказание. Или возьмем деревья решений: каждый их узел представляет простое правило «если → то», которое легко интерпретировать. Но по мере усложнения задач такие простые модели часто не справляются.
Объяснимость же — это способность модели предоставить понятное человеку объяснение уже после того, как решение принято. Причем само устройство модели может оставаться «черным ящиком». Как в случае непрозрачным кубом — мы не видим его внутренностей, но получаем внятное объяснение результатов его работы.
В чем же принципиальная разница? Интерпретируемость отвечает на вопрос «Как работает модель?», а объяснимость — «Что может рассказать модель о своем решении?». Интерпретируемые модели прозрачны по своей природе, в то время как методы объяснимости пытаются постфактум разобраться в работе уже существующих черных ящиков.

Важно понимать, что это не взаимоисключающие подходы. Более того, они часто дополняют друг друга. Например, Self-Explaining Neural Networks (SENN) сочетают сложную архитектуру современных нейросетей с возможностью генерировать понятные человеку объяснения своих решений.
И всё же выбор между этими подходами часто определяется конкретной задачей. Если вы разрабатываете систему кредитного скоринга, где каждое решение должно быть абсолютно прозрачным — вам нужна интерпретируемая модель. Если же вы создаете систему распознавания лиц, где важнее точность, а объяснения нужны только для отладки — методы объяснимости могут оказаться более подходящим выбором.
В конечном счете и интерпретируемость, и объяснимость служат одной цели — сделать ИИ-системы более понятными и заслуживающими доверия. Просто делают они это разными путями.
Как сделать модель понятной изначально
Когда речь заходит об интерпретируемости моделей машинного обучения, можно выделить два принципиально разных подхода. Первый — это создание моделей, которые прозрачны по своей природе, так называемых white-box моделей. Второй — попытки понять устройство уже работающих сложных моделей постфактум. Пока остановимся на первом.
В основе всех интерпретируемых моделей лежит простой принцип: ограничить сложность модели так, чтобы человек мог понять её работу. Это похоже на то, как мы учим детей математике: сначала простые операции сложения и вычитания, потом умножение, и только потом переходим к алгебре. Каждый следующий уровень строится на понятном фундаменте.

При разработке интерпретируемых моделей исследователи намеренно накладывают ограничения на их структуру. Чтобы сделать модель понятной, её можно, например, ограничить только линейными зависимостями между входами и выходами (как в логистической регрессии). Другой подход — обеспечить монотонность, когда увеличение входного параметра может только увеличивать или только уменьшать выход, что делает поведение модели более предсказуемым. Можно также использовать аддитивный подход, разложив сложную функцию на простые составляющие, каждую из которых легко интерпретировать по отдельности. Или применить принцип разреженности, когда модель обучается использовать только самые важные признаки, игнорируя остальные.
Классические интерпретируемые модели, такие как деревья решений или линейная регрессия, прекрасно работали с табличными данными небольшой размерности. Но с появлением глубокого обучения и неструктурированных данных (изображений, текста, видео) ситуация изменилась. Стало ясно, что простых моделей недостаточно — нужны более сложные архитектуры, которые при этом сохраняют интерпретируемость.
Это привело к тому, что исследователи начали разрабатывать новое поколение интерпретируемых моделей, стремясь совместить выразительную мощь глубоких нейросетей с прозрачностью классических подходов. Self-Explaining Neural Networks, Neural Additive Models, Contextual Explanation Networks — все эти архитектуры представляют современный взгляд на то, какой должна быть интерпретируемая модель.
Классические подходы к интерпретируемости
Классическими принято называть методы, которые изначально разрабатывались с прицелом на интерпретируемость. Их фундаментальный принцип — использование простых и понятных человеку строительных блоков: логических правил, линейных зависимостей, пороговых значений. По сути, это попытка формализовать человеческие рассуждения на языке машинного обучения.
Самый интуитивно понятный подход — правила «если → то» (rule-based models). Они имитируют процесс принятия решений экспертом. Например, врач может рассуждать так: «если у пациента температура выше 38 °C и количество лейкоцитов повышено, то вероятность заболевания высокая». Но с ростом сложности задачи количество правил растет, и они становятся всё менее управляемыми.
Именно поэтому появились более структурированные решения, такие как Falling Rule Lists (FRL). В таких моделях правила выстраиваются в строго заданном порядке — от самых «сильных» к самым «слабым». То есть каждое следующее правило применяется только если не сработало предыдущее, а вероятность целевого класса при этом постепенно снижается. Проще говоря, это байесовская модель, которая изначально «знает», что правила должны идти по убыванию вероятности и оставаться простыми.
Другой классический подход — скоринговые модели, такие как Supersparse Linear Integer Models (SLIM). Их главная особенность — использование целочисленных коэффициентов и минимального набора признаков. Математически SLIM решает задачу оптимизации:
где — вектор целочисленных коэффициентов, а
и
контролируют разреженность модели.
Такой подход особенно популярен в медицине и финансах, где нужна простая система оценки рисков. Например, в медицине каждому симптому присваивается определенный целочисленный вес, а итоговая оценка риска заболевания получается как сумма этих весов для наблюдаемых симптомов.
Отдельного внимания заслуживают обобщенные аддитивные модели (GAM). Их идея в том, что сложную зависимость можно разложить на простые составляющие:
где — функция связи, а
— гладкие функции для каждой переменной. GAM позволяют увидеть вклад каждого признака по отдельности, что критически важно для понимания модели.
Все эти подходы объединяет общий принцип — строгие ограничения на структуру модели. Это может быть монотонность (как в FRL), разреженность (как в SLIM) или аддитивность (как в GAM). Такие ограничения делают модели прозрачными для понимания, но одновременно могут ограничивать их способность улавливать сложные закономерности в данных. Например, строго монотонная модель не сможет описать ситуацию, когда средние значения признака более опасны, чем крайние.
Современные подходы к интерпретируемым моделям
Классические подходы прекрасно работают с табличными данными небольшой размерности, но у них есть ограничение: они жертвуют выразительностью ради простоты. Но что, если этот компромисс не обязателен? Что, если можно создать модель, которая будет одновременно мощной и понятной?
Поиск ответа на этот вопрос привел к появлению нового поколения интерпретируемых архитектур. Вместо того чтобы пытаться упростить модель целиком, современные подходы предлагают более тонкий баланс: модель может быть сложной глобально, но при этом оставаться простой и понятной локально.
Neural Additive Models (NAM) — яркий пример такого подхода. Эта архитектура берет лучшее от классических GAM и переносит его в мир глубокого обучения. В NAM каждый признак обрабатывается отдельной нейронной сетью:

где каждая функция — это нейронная сеть, обученная работать только с одним признаком. Такая декомпозиция позволяет модели улавливать сложные нелинейные зависимости, оставаясь при этом интерпретируемой: вклад каждого признака можно легко визуализировать и понять.
Интересная особенность NAM — использование так называемых exp-centered units (ExU), особого типа скрытых нейронов. Они решают важную проблему: стандартные нейронные сети с ReLU активацией, несмотря на их теоретическую универсальность, на практике затрудняются в моделировании резких изменений функции. ExU-нейрон вычисляет:
где и
— обучаемые параметры, а
— функция активации ReLU-n (ReLU, ограниченный сверху значением n). Такая комбинация экспоненциальной трансформации и ограниченной активации позволяет каждому нейрону эффективно работать в своем локальном диапазоне.
Критически важным оказывается правильная инициализация: веса должны быть инициализированы из нормального распределения , где
лежит в интервале
. Это обеспечивает, что сеть начинает обучение уже имея способность генерировать зубчатые функции.
Такая архитектура существенно лучше справляется с задачей моделирования резких изменений в данных по сравнению со стандартными нейронными сетями.
Self-Explaining Neural Networks (SENN) предлагают другой подход к интерпретируемости. Вместо того чтобы разделять признаки, SENN разбивает входные данные на интерпретируемые концепты и показывает, как каждый из них влияет на итоговое решение. Математически это выглядит так:
где преобразует входные данные в понятные человеку концепты,
определяет важность каждого концепта, а
— интерпретируемая функция, комбинирующая их вместе.

SENN обучается с помощью специального регуляризатора, который обеспечивает локальную линейность модели. Это означает, что для каждой точки данных мы можем точно сказать, какие концепты и насколько сильно повлияли на решение.
Конечно, это не единственные подходы, но они хорошо демонстрируют, как современные архитектуры решают проблему интерпретируемости: вместо глобального упрощения модели они предлагают локально понятные объяснения. NAM делает это через декомпозицию на отдельные признаки, SENN — через интерпретируемые концепты.
Важно отметить, что эти модели не просто предлагают объяснения постфактум — их интерпретируемость встроена в саму архитектуру. Когда NAM показывает график влияния признака или SENN выделяет важные концепты, это не приближение или упрощение, а точное описание того, как модель принимает решения.
Ограничения подходов к интерпретируемости
Создание по-настоящему интерпретируемых моделей оказалось намного сложнее, чем можно было предположить изначально. И дело не только в техническом аспекте — проблема гораздо глубже.
Начнем с фундаментального вопроса: как измерить интерпретируемость? Для разных типов моделей используются разные метрики, и их сложно сравнивать между собой. Глубина дерева решений, количество ненулевых весов в линейной модели, сложность концептов в SENN — всё это разные измерения одной проблемы. Как сравнить, что понятнее: дерево глубиной 10 или линейная модель с 20 признаками?
Второй важный момент — это «цена» интерпретируемости. Каждое ограничение, которое мы накладываем ради понятности, может сужать возможности модели. Целочисленные коэффициенты в SLIM, независимость признаков в GAM и NAM, необходимость явного выделения концептов в SENN — все это может мешать модели улавливать сложные закономерности в данных.
Отдельная проблема возникает при масштабировании. Методы, прекрасно работающие на небольших наборах данных, становятся неуправляемыми при увеличении размерности. Представьте FRL с тысячей правил или GAM с сотней признаков — визуализация и интерпретация такой модели становится практически невозможной.
Но самое интересное ограничение лежит на стыке технологии и общества — это разрыв между идеальными предположениями разработчиков и реальностью использования. Исследователи называют эти разрывы «швами» (seams) в AI-системах. Например:
Модель может быть обучена на данных одного региона, а применяться в другом.
Пользователи могут интерпретировать выводы модели не так, как предполагали разработчики.
Социальный контекст может радикально менять значение «интерпретируемых» концептов.
Примечательно, что некоторые исследователи предлагают не скрывать эти ограничения, а использовать их как преимущество. Этот подход, названный Seamful XAI, предполагает, что знание о слабых местах системы может помочь пользователям лучше с ней взаимодействовать.
В итоге мы приходим к пониманию, что универсального решения нет. Выбор подхода к интерпретируемости должен учитывать не только технические характеристики, но и социальный контекст, особенности предметной области и потребности конкретных пользователей. Иногда простое дерево решений может оказаться лучшим выбором, чем сложная нейросетевая архитектура — всё зависит от контекста применения.
Как объяснить уже работающую модель
Представьте, что вы купили новый гаджет, но инструкция к нему потерялась. Что делать? Можно попытаться разобрать устройство (но это рискованно), а можно методом проб и ошибок понять, как оно работает. Конечно, пример сильно упрощен, но примерно так же обстоит дело с «объяснением» уже обученных моделей машинного обучения, когда нет возможности заглянуть внутрь модели.
К счастью, за последние годы исследователи разработали целый арсенал методов для такого «внешнего» анализа. Подобно тому, как психологи используют разные подходы для понимания человеческого поведения, в машинном обучении также сформировалось несколько основных направлений:
Методы атрибуции — отвечают на вопрос «какие входные признаки больше повлияли на решение модели?».
Концептуальные объяснения — переводят работу модели на язык высокоуровневых понятий, доступных человеку, превращая сложные паттерны в простые концепции.
Контрфактуальные объяснения — показывают, что нужно изменить во входных данных, чтобы получить другой результат, отвечая на вопрос «что если бы...».
При этом, как и в реальном мире, объяснения могут быть как локальными (для конкретного случая), так и глобальными (для всей системы в целом). По аналогии между объяснением «почему именно этот пациент получил такой диагноз» и «как модель в принципе ставит диагнозы».
Современные методы post-hoc объяснений
Пару слов о том, что это за методы.
Post-hoc методы объяснения (от лат. «после этого») позволяют анализировать поведение уже обученной модели, не меняя её внутреннюю структуру. Это особенно важно, когда мы имеем дело со сложными нейронными сетями или другими «черными ящиками», которые уже используются на практике и не могут быть заменены более простыми моделями.

В отличие от интерпретируемых моделей, которые мы рассматривали ранее, post-hoc методы работают с любыми алгоритмами. Они позволяют получить представление о том, как модель принимает решения, не жертвуя её производительностью и не требуя переобучения.
Рассмотрим три основных направления таких методов.
Методы атрибуции: в поисках виновных
Начнем с простой аналогии: представьте себе классический детектив, где следователь ищет улики, чтобы понять, кто причастен к преступлению. Методы атрибуции работают похожим образом: они пытаются определить, какие входные признаки «виновны» в конкретном решении модели. Только вместо отпечатков пальцев здесь — веса признаков, а вместо следов — градиенты.

Формально говоря, для бинарного классификатора и входного вектора
, атрибуция определяет вклад каждого признака в итоговое решение. В современном машинном обучении особенно выделяются три подхода, каждый со своими сильными сторонами и особенностями.
LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) работает как детектив, который реконструирует картину преступления. Он берет интересующий нас пример, создает множество похожих случаев и пытается построить простую интерпретируемую модель, которая локально имитирует поведение сложной:
где — класс простых моделей (например, линейная регрессия),
— функция верности предсказаниям исходной модели, а
— штраф за сложность объяснения.
Главное преимущество LIME — его универсальность: метод работает с любыми моделями и типами данных, будь то текст, изображения или табличные данные. Однако у него есть и ограничения: объяснения могут быть нестабильными, а выбор размера окрестности для локальной аппроксимации существенно влияет на результат.
SHAP (SHapley Additive exPlanations) использует более фундаментальный подход, основанный на теории кооперативных игр. Метод вычисляет, насколько изменится предсказание модели при добавлении каждого признака, учитывая все возможные комбинации остальных признаков:
SHAP обладает важными теоретическими свойствами, такими как локальная точность, непротиворечивость и справедливое распределение влияния между признаками. Это единственный метод, который объединяет несколько классических подходов к атрибуции в единый теоретический фреймворк. Однако за эту математическую строгость приходится платить вычислительной сложностью — точный расчет SHAP-значений требует экспоненциального времени.
Integrated Gradients (IG) предлагает другое решение проблемы атрибуции через интегрирование градиентов вдоль прямой, соединяющей базовую точку и исследуемый пример
:
Метод удовлетворяет реализационной инвариантности и части аксиомы чувствительности, что делает его теоретически обоснованным для применения в глубоких нейронных сетях. На практике интеграл может быть аппроксимирован численно. Однако, как и другие методы атрибуции, IG зависит от выбора базовой точки , что может существенно влиять на результаты в разных предметных областях.
На практике выбор метода атрибуции часто определяется конкретной задачей. LIME обеспечивает модель-агностический подход, но может давать неточные результаты для нелинейных границ решений и имеет проблемы с табличными данными. SHAP предоставляет теоретически обоснованный фреймворк, но может быть вычислительно затратным и давать неинтуитивные атрибуции признаков. Integrated Gradients, хотя и применим к глубоким нейронным сетям, может быть непоследовательным в генерации объяснений и чувствителен к выбору базовой точки.
Важно помнить, что методы атрибуции, при всей их математической сложности, имеют фундаментальное ограничение: они показывают, на что смотрит модель, но не объясняют, почему она принимает те или иные решения. Именно поэтому методы атрибуции часто дополняют другими подходами к объяснению.
Концептуальные объяснения
Методы атрибуции показывают нам, какие пиксели или признаки повлияли на решение модели. Но что делать, если отдельные пиксели или низкоуровневые признаки не несут смысловой нагрузки? Ситуация: вы пытаетесь объяснить врачу работу нейросети для диагностики пневмонии, показывая ему тепловую карту активации отдельных пикселей. Вряд ли это будет полезно — врачу нужны понятные медицинские концепты вроде «затемнение в нижней доле правого легкого».
Именно для решения этой проблемы были разработаны методы концептуальных объяснений. Их главная идея — объяснять решения модели через высокоуровневые понятия, доступные человеку. Ведущим представителем этого подхода является TCAV (Testing with Concept Activation Vectors).
Технически TCAV работает следующим образом. Для нейронной сети , которая раскладывается как
, где
— активации
-го слоя, мы определяем чувствительность к концепту
как:
где — вектор активации концепта, который получается обучением линейного классификатора отделять примеры с концептом от случайных примеров.
На практике чувствительность к концептам агрегируется в TCAV-оценку:
где — множество входов класса
. По сути, это доля примеров, для которых концепт положительно влияет на классификацию.
Важное преимущество TCAV в том, что он дает глобальные объяснения, показывая влияние концептов на модель в целом. Однако метод имеет ряд существенных ограничений: сниженная эффективность при сильных корреляциях в данных, необходимость предварительной разметки концептов, и проблемы при случайном выборе входных концептов.
Для решения этой проблемы были разработаны расширения, такие как интегрированная концептуальная чувствительность (ICS):
ICS комбинирует идеи концептуальной чувствительности и интегрированных градиентов, что позволяет получать локальные объяснения на уровне концептов для конкретных предсказаний.
В результате концептуальные объяснения позволяют «перевести» работу сложной модели на язык, понятный экспертам предметной области. Это особенно важно в критических приложениях вроде медицины или беспилотных автомобилей, где решения должны быть не только точными, но и понятными человеку.
Контрфактуальные объяснения: «что, если бы...»
«Почему мне отказали в кредите?» — спрашивает клиент у банка. «Потому что алгоритм оценил вероятность дефолта как высокую» — не самый полезный ответ. Гораздо информативнее было бы сказать: «Если бы ваш ежемесячный доход был выше на 20%, кредит был бы одобрен». Именно такой подход — объяснение через изменения, которые могли бы привести к другому результату — лежит в основе контрфактуальных объяснений.

В отличие от методов атрибуции, которые отвечают на вопрос «почему такое решение?», контрфактуальные объяснения отвечают на вопрос «что нужно изменить для другого решения?». Математически это выглядит как задача оптимизации:
где — исходный пример,
— его контрфактуальная версия,
— желаемый результат,
— мера различия между примерами, а ℒ — функция потерь, показывающая, насколько предсказание модели для
отличается от желаемого
. Параметр
контролирует баланс между минимальностью изменений и достижением цели.
На практике мы часто хотим получить несколько различных объяснений — ведь может быть несколько способов достичь желаемого результата. Для этого решается расширенная задача оптимизации:
где — различные контрфактуальные примеры, а
— мера их разнообразия. Это похоже на то, как врач может предложить пациенту несколько альтернативных планов лечения.
Однако есть важный нюанс: контрфактуальные объяснения должны быть не только математически корректными, но и практически реализуемыми. Например, предложение «если бы вам было на 10 лет меньше...» технически верно, но бесполезно. Поэтому современные методы, такие как MACE (Model-Agnostic Counterfactual Explanations), позволяют добавлять ограничения реализуемости и учитывать специфику предметной области.
Особенно интересное направление — использование генеративных моделей для создания контрфактуальных примеров. Например, в компьютерном зрении VAE или GAN могут генерировать реалистичные изменения изображений, показывая, как должен выглядеть объект, чтобы быть классифицированным иначе. При этом важно сохранять причинно-следственные связи и физические ограничения реального мира.
Развитием этой идеи стал подход algorithmic recourse — поиск не просто контрфактуальных примеров, а конкретных действий, которые могут привести к желаемому результату. Это особенно важно в социально-значимых приложениях, где решения алгоритмов напрямую влияют на жизни людей.
Контрфактуальные объяснения обладают важным преимуществом: они естественны для человеческого мышления (мы часто рассуждаем в терминах «что, если») и сразу предлагают план действий. Однако у них есть и существенные ограничения: поиск реализуемых контрфактуальных примеров может быть вычислительно сложным, а для некоторых типов данных или решений они могут быть вообще невозможны.
Ограничения методов post-hoc объяснений
Попытки объяснить работу уже обученных моделей сталкиваются с фундаментальной проблемой: как убедиться, что объяснение действительно отражает внутреннюю логику работы модели?
Чтобы объяснение было действительно полезным, оно должно удовлетворять нескольким ключевым требованиям: быть достоверным по отношению к исходной модели (faithfulness), давать согласованные результаты при схожих данных (consistency), оставаться стабильным для похожих примеров (stability) и быть понятным для конечных пользователей (comprehensibility).
Второе ограничение — масштабируемость. Точный расчет SHAP-значений растет по времени экспоненциально и быстро становится непрактичным для крупных моделей. С контрфактуальными объяснениями ситуация схожая: в пространствах с тысячами признаков их генерация требует огромных вычислительных ресурсов. А концептуальные объяснения, в свою очередь, упираются в необходимость ручной разметки понятий экспертами — этот процесс почти невозможно масштабировать.
Третье ограничение связано с практическим применением. Объяснения должны учитывать специфику предметной области и потребности конечных пользователей. При этом существует риск, что методы post-hoc объяснений могут не выявить системные ошибки в работе модели, особенно связанные с причинно-следственными связями и предвзятостью в данных.
Более того, наличие правдоподобного объяснения может создать иллюзию понимания работы модели, даже если сама модель имеет существенные недостатки. Это особенно критично в областях, где решения модели имеют серьезные последствия.
Современный инструментарий объяснимого ИИ
Если методы объяснения моделей — это теория, то библиотеки и фреймворки — это практика. За последние годы было разработано множество инструментов, помогающих исследователям и практикам делать модели машинного обучения более прозрачными.
Фундаментом современного XAI можно считать две библиотеки, которые мы упоминали ранее: SHAP и LIME. SHAP предлагает математически строгий подход к объяснению предсказаний, основанный на теории игр. Особенно эффективна его реализация TreeSHAP для древовидных моделей, способная генерировать объяснения за миллисекунды. LIME, в свою очередь, фокусируется на локальных объяснениях, помогая понять конкретные решения модели через аппроксимацию более простыми интерпретируемыми моделями.

Более комплексные решения представлены фреймворками вроде AI Explainability 360 от IBM или What-If Tool от Google. Они предлагают не только методы объяснения, но и инструменты для анализа справедливости моделей, их надежности и потенциальных проблем. Особенно полезна возможность проводить интерактивные эксперименты, меняя входные данные и наблюдая за реакцией модели.

Глубокие нейронные сети потребовали создания специализированных инструментов. DeepLIFT позволяет проследить вклад каждого нейрона в итоговое решение, а Captum от Facebook предоставляет единый интерфейс для различных методов атрибуции в PyTorch-моделях. Эти инструменты особенно важны при работе со сложными архитектурами, где классические методы объяснения не работают.

Интересное направление представляют инструменты для автоматической генерации отчетов и документации. ModelStudio позволяет одной командой создать интерактивный веб-интерфейс для исследования модели. А DALEX предоставляет единый интерфейс для работы с различными методами объяснения и визуализации.

Отдельного упоминания заслуживает OmniXAI — относительно новая библиотека от Salesforce, которая пытается объединить все популярные методы объяснения под одной крышей. Она поддерживает работу с табличными данными, текстами и изображениями, а также предлагает унифицированный API для различных методов объяснения.

В конечном счете, несмотря на обилие инструментов, важно понять одно: они не делают модель понятной магическим образом. Это всего лишь инструменты, эффективность которых зависит от того, как мы их используем и насколько хорошо понимаем их ограничения.
Будущее объяснимого ИИ
С появлением всё более сложных моделей машинного обучения мы приходим к фундаментальному вопросу: возможно ли в принципе понять, что происходит внутри «черного ящика»? И если да, то как это понимание должно выглядеть?
Традиционный подход к объяснимому ИИ основывался на идее, что мы можем и должны заглянуть внутрь модели, разобрать её работу на составляющие. Но появление гигантов вроде GPT-4 и DALL-E 3 показало, что такой подход быстро упирается в потолок — слишком уж громоздкими стали современные архитектуры.
Возможно, нам стоит изменить сам подход к объяснимости. Вместо того чтобы пытаться раскрыть все детали работы модели, можно сосредоточиться на том, как сделать её использование более безопасным и эффективным. Это похоже на то, как мы используем сложные технические системы в повседневной жизни — не нужно понимать все нюансы работы процессора в смартфоне, чтобы продуктивно его использовать.
Такой прагматичный подход уже начинает формироваться в концепции Human-Centered XAI. Здесь фокус смещается с технических деталей на контекст использования системы. Важно не только то, какие признаки повлияли на решение модели, но и как это решение вписывается в более широкий социальный и организационный контекст.
При этом остаются открытыми фундаментальные вопросы. Как измерить качество объяснения? Что считать хорошим объяснением — набор правил, дерево решений или что-то еще? До сих пор нет единого стандарта или даже общего понимания того, как оценивать понятность объяснений для людей с разным уровнем экспертизы и в разных контекстах использования.
Отдельный вызов представляет собой регуляторный аспект. Уже сейчас более 58 стран разрабатывают правила для ИИ-систем, и многие из них требуют определенного уровня прозрачности и объяснимости. Но как совместить эти требования с реальностью современных моделей машинного обучения? Полная прозрачность может быть не только технически невозможной, но и нежелательной с точки зрения безопасности и конфиденциальности.
В конечном счете главный вопрос не в том, можем ли мы полностью понять работу сложных моделей, а в том, как сделать их использование более надежным и полезным для людей. И хотя универсального решения может не существовать, развитие этой области поможет нам создавать более ответственные и этичные ИИ-системы.
А что думаете вы? Какое будущее ждет объяснимый ИИ? Будем рады услышать ваше мнение в комментариях!

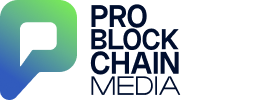
 Русский
Русский English
English