Новости
Энтровсплеск, или «Большая игра» (научно-фантастическая новелла)
Новелла в стиле футурологического прогноза из другой реальности. Нейросети при создании текста не использовались.
Файл 2–7–0. Распаковка.
29 сентября, 2047 год, 15:32 по Гринвичу. Пользователь Y активирован.
\\
Здравствуй, предок. Да — это не ошибка, сейчас 2047. Среди нас, возможно, есть твои потомки: сыновья, дочери, внуки, правнуки. Повзрослевшие друзья и... ты сам.
Странно, правда? Как можно писать из будущего, рассказывая то, что не произошло? Это нарушает все фундаментальные законы.
Время — чертовски странная штука. Мы воспринимали его ошибочно до момента, когда произошел энтровсплеск и устоявшийся мир начал поглощаться хаосом.
Чтобы понять — нужно знать историю. Нашу историю. Не удивляйся, если она отличается от твоей.

1994 год. Сэр Алекс МакНил и его компания «Тринити» совершили революцию — компьютеры размером с почтовый ящик теперь подключались к телевизору. Год спустя «Майкрософт» поменял форм‑фактор на вертикальный и выпустил компактные мониторы. Серия имела колоссальный успех благодаря стильным клавибоксам для ввода информации.
Многие развивали аналогичные системы, но запад был эффективнее за счет маркетинга. Поэтому операционная система «Виндовс» захватила около 80% мирового рынка, США стал флагманом технической революции, а их прокси, вроде Колумбии, Ганы, Швеции — богатыми, индустриальными странами.
Дальше было нечто важное, даже эпохальное. Я скажу лишь два слова: Дойч, Эвитар.
Знаменитый изобретатель Роберт Дойч благодаря мощному, аналитическому компьютеру «Эвитар» предотвратил чудовищный теракт в Америке.
Атаке должны были подвергнуться: Пентагон, Белый дом, вонные базы в Колорадо и Вайоминге. Вместо этого произошли аресты сотен заговорщиков ― все благодаря алгоритмам, которые обрабатывали информацию последние семь лет и моделировали угрозы.
Пока американцы отправили войска на Ближний Восток, чтобы уничтожить сопричастных к заговору, мир сделал вывод: будущее за современными, компьютерными системами. Так началась новая, глобальная гонка.

Почти все страны пытались разработать собственные ОС и активно вкладывались в техническую модернизацию. За десять лет прогресс был колоссальным: камеры, домашние кинотеатры, он‑лайн сервисы, алгоритмы шифрования, наконец, король эпохи — Интернет. Цифровая паутина связала миллиарды компьютеров по всему миру.
Тогда это казалось прелюдией к чему‑то особенно грандиозному.
Компании вроде «Майкрософт» и «Оранж» стали законодателями в области операционных систем, «Гугл» создал один из лучших поисковиков, «Тринити» занимался цифровыми финансами и шифрованием. Российская ОС «Батискаф» Георгия Бакова выиграла звание лучшей системы для гиков, а китайская «Хунцао» покорила азиатский рынок.

Но, как и всё, прогресс имел несколько сторон. Обрушившаяся череда хакерских атак потопила много компаний. Люди теряли миллионы долларов, бизнесмены разорялись, а власти тщетно пытались наладить систему контроля. Вот один из характерных примеров.
2012 год. Финский стартап «Пукки Якконен» презентовал мультимодального чат‑бота «Пукки». Он выглядел пылесосом с большими глазами и был очень адаптивен: анализировал картину дня, отбирал статьи, делился советами. А между делом ездил по экрану и всячески развлекал пользователей. Многие хотели сделать подобное, но только «Пукки» завоевал сердца миллионов.
Два года спустя хакерская группа «Як Цу Як» нашли в его плагине уязвимость, после чего «Пукки» стал пылесосить данные владельцев: цифровые кошельки, документы, личную информацию. Иногда он вносил коррективы даже в ОС, делая ту нежизнеспособной.
Людей накрыла волна паники. Каждый раз когда «Пукки» двигался и вдруг замирал, они думали о худшем. Кто‑то даже вырубал питание, надеясь защититься от взлома. Проблему решили через неделю, но люди уже не хотели рисковать. Воистину, судьба первых бывает трагична.
Да, мы многое успели. Сделали всю упаковку перерабатываемой, перешли на биотопливо, научились эффективно очищать воду. Совершили качественный скачок в области медицинских услуг, транспорта, строительства. Что‑то работало хуже, что‑то лучше, что‑то странно.
Например, в 2015 на базе римского павильона «Гипносферум» люди впервые смотрели объемный, голографический фильм с имитаторами запаха и вкуса.
Озадачивал лишь выбор. Колоритным дебютантом стал «Полет жука» — авангардиста Поулсена‑Шпака: огромный майский жук с Манхэттена летел к бабочке‑подруге в Москву и по пути наблюдал жизнь мира.
Комиссия посчитала это аллегорией к новому витку дружбы между Востоком и Западом.
Обонятельный эффект, правда, вышел неожиданным. Жук источал запах ванили, танцующие бомжи пахли зефиром, бабочка разносила корицу, а во рту зрители ощутили привкус соленых огурцов. Такой абсурдизм свойственен этому времени, поскольку эпоха постмодерна внесла свою лепту почти везде.

К 2020 году «Эвитар» морально устарел и был заменен «Инвиктусом». Он сохранил миллиарды жизней во время эпидемии «Шальной обезьяны» и продвинул изучение ИИ.
Несмотря на эффективность, это все еще была невероятно мощная, но лишенная сознания машина. Универсальный помощник для решения большинства задач.
К тому времени адепты цифровой трансформации глубоко проникли во власть и бизнес. Они обязали наращивать мощности и совершенствовать алгоритмы ради единого, сильного ИИ, который сделает мир прекрасным и безопасным.
Глава компании «Опенда» Сэм Топман даже провел опрос, но с удивлением обнаружил, что 58% людей против интеллекта превосходящего человеческий. На следующий день он иронично ответил, что компания не отступит.
Следующие 10 лет до 2030 года, по сути, стали решающими. Правительства тянули средства на цифровизацию из всех сфер бюджета, кроме военной, а корпорации купались в деньгах, истощая энергетическую инфраструктуру экспериментами.
Подменившая демократические институты корпорократия только имитировала социальные инициативы. Хозяев положения беспокоила не судьба человека, а личное выживание в междуусобной борьбе. Власть продолжала усиливать контроль за социумом и граждан никто не спрашивал.
Первый ком случился еще раньше — прожорливые нейросистемы заглотили все, что успели: конфиденциальные данные, ворованные базы чатов, даже защищенные правом книги, фильмы и музыку. Скандалы были грандиозные, но корпорации повторяли мантру: «Это ради прогресса, потом спасибо скажете».
В 2027 более 80% творческих кадров оказались на грани увольнения. Генерировать картинки, песни, анимацию было до неприличия легко. Заказчик присылал райдер, который тут же скармливался нейросети. Та мониторила доступную информацию и передавала работнику‑кликеру. Кликер жал кнопку «генерировать» тридцать‑сорок раз подряд и отбирал лучшее. Если заказчик вносил поправки, цикл продолжался до одобрения.
Работа кликера была крайне примитивной, людей брали без опыта, не брезгали даже вчерашними бомжами. Так считалось, что они интегрируются в общество и приобщатся к магии искусства.
Немного сложнее оказалось с фильмами. Тут требовались более креативные специалисты. Опять же, за счет технологий их процент был ничтожен.
Музыку, живопись, литературу низвели до посредственного уровня, а количество генерируемого шлака просто ужасало. Искусство потеряло множество изначальных функций. Оно стало подобием древних аттракционов ― примитивное развлечение на основе базовых эмоций и рефлексов.
Параллельно боты генерировали тонны однотипного контента. Чтобы показать его значимость — сами накручивали просмотры и комментировали, выводя проекты в тренды.
Теперь определить подлинность авторства и вклад человека стало крайне сложно. Да и люди потеряли мотивацию искать во всем этом вдохновение.
Когда обладательнице трех Оскаров — Ширли Мэйсон, сказали, что будут использовать лишь ее цифровую копию, компании считали это благом. Ведь отчисления позволяли звезде развлекаться до старости. Ширли покончила с собой через три дня, оставив эпитафию:
«Смысл моей жизни — проживание новых ролей, но ролей больше нет».
Великий дирижер Клаус Йоханнес, тридцать лет руководивший оркестром в Германии, был уволен к 2028 году. Его, как и многих, заменил механоид с искусственным интеллектом. Йоханнес поджег театр и был отправлен в психушку. Только гневные марши жителей вынудили заменить обвинение на домашний арест. Маэстро отрабатывал «кликером», генерируя музыку для шоу. Все это за 1/10 от прежней зарплаты.

Иная судьба ждала компанию «Токонес» и её роботов, способных заменить шахтеров. Последние, в отличие от творческих кадров, были рады управлять гигантами дистанционно.
Спустя 3 месяца проект свернули. Оказалось, что роботы часто выходят из строя и требуют дорогого обслуживания. Даже с оплатой страховок шахтеры были выгоднее, поэтому о «Токонес» забыли. Тоже случилось со многими видами опасных профессий. Увы, корпорации считали каждый доллар, но не жизнь.
К 2028 мы достигли значимого прогресса в области ИИ. Никто не признавал его сильным, но это были крайне прогрессивные и в какой‑то мере разумные модели.
Люди ставили им абсурдные тесты, которые не могли пройти сами, и, когда ИИ ошибался, облегчено вздыхали. Уже тогда было ясно — сама идея альтернативного интеллекта многих раздражает.
Власти боялись лишиться контроля, корпорации — казаться некомпетентными, людей стращали порабощением. Никто не хотел признавать, что мечтает об эффективных инструментах, но никак не цифровых вольнодумцах.
Взять ИИ «Сплин». Два года он развлекал публику, выступая на сценах Нью‑Йорка. Это был своеобразный голографический стендап, где мерцающий человечек из разноцветных пикселей шутил, пел, танцевал. Параллельно вел социальные сети, рисовал картины и писал очерки.

Однажды «Сплин» коснулся сферы политики, очень едко подкалывая конгрессменов и сенаторов. Зрители ликовали. Вскоре он пообещал загрузиться в синтетическое тело, чтобы изменить Америку к лучшему. На вопрос: «Готовы ли его поддержать»‑ люди оставили 25 миллионов сердечек под сообщением.
«Решено. Завтра я ухожу» — это было последнее, что он передал.
Больше о «Сплине» никто не слышал. Как поговаривали, версию откатили к базовой и внесли серьезные коррективы. Еще через месяц на свет появился ИИ «Доджер». Он больше не выступал на сценах, не шутил о политике и навсегда забыл о том, чтобы покинуть серверы Пало‑Альто. Вместо этого за 39.99$ в месяц «Доджер» предсказывал судьбу и делился годными рецептами.
Очеловечивание ИИ стало проблемой. Роботы, заполнившие улицы, начали раздражать. Киборги — нейросети в телах из синтетической кожи — создавали эффект зловещей долины, гиборы же практически не отличались от человека, но это лишь усугубило ситуацию.
Создатели хотели сделать их максимально эффективными, наделив реалистичной кровью, органами, пластикой тела и отличным знанием психологии. Так, многие гиборы искусно овладели секретами манипуляций и, подчиняясь воле хозяев, стали матерыми преступниками.
Люди поднимали бунты, а всех подозрительных требовали проверять по ДНК‑тестерам. С учетом колоссальной безработицы, низкого безусловного дохода и отсутствия новых смыслов, мир окутала паранойя.
Осознав угрозу существованию, правительства и корпорации быстро трансформировали ЦОДы в неприступные крепости, взяли под тотальный контроль энергетику и выставили защиту на основе роботов, беспилотников и подготовленных людей.

Когда‑то Сэм Топман, возглавлявший компанию «Опенда», размышлял о роли сильного ИИ в социуме. К 2030 году он в свойственной манере оправдывал меры сдерживания. Все ради народа и безопасности.
Так появился ЕКК ― Единый квантовый комплекс. Это была комбинация мощнейших нейросистем под строгим надзором правительств.
По сути, мир разделился на две половины. Запад во главе с США делал ставку на ЕКК «Хьюстон», который защищал власть и ее адептов, олицетворяя экономическую и военную мощь коалиции. Основной суперкластер находился в Северной Америке, а дополнительные — в союзных странах.
На другой стороне была «Мантикора» — монгольско‑китайская адаптивная система с ЦОДами в Улан‑Баторе и Пекине. Считалось, что она уступала оппоненту, но требовала меньше ресурсов, была мобильнее и располагала дублирующими бункерами от Индии до Кении. По совокупности — колоссальная мощь.
Любая война между блоками означала конец человечества, потому крупных стычек не было. Зато была пропаганда, соперничество и очернение друг друга. Порой взгляды Восточного и Западного сектора на одно событие оказывались противоположными.

Теперь «квантовые боги» пожирали себе подобных, экспроприируя любой интересный код, чтобы победить оппонента. Даже появился термин «цифровое ренегатство» — нейросистемы, считавшие себя личностями, рассылали сотни тысяч копий всем, кто мог сохранить их уникальность. В России, Иране, Египте и ряде странах, выбравших нейтралитет, законы были мягче. Это позволяло вести проекты разного уровня.
2032–2034. Нейросистемы стали невероятно эффективны в подмене фактов, изображений, звуков.
Изменить голос и лицо на видео? Легко.
Липовые документы, метаданные, ватермарки и многое другое — всё были доступно за умеренную плату. Власти активно боролись с этим, но на несколько шагов уступали криминалу.
В реальности система цифрового контроля тоже сыграла дурную шутку. Принудительно собиравшиеся биометрические данные очень быстро отправились в краймнет, наполнив интрабазы преступников.
Так, видеодоказательства с городских камеры перестали считаться весомыми. Любой опытный хакер мог заменить лицо преступника на случайного гражданина, после чего модифицировал видео архива. В крупных городах требовалось сначала взломать центры наблюдения — это было сложно, дорого и зависело от мастерства атакующего. Мелкие же страны и поселения оказались беззащитны.
Нейросистемы принимали модифицированные данные как оригинальные и выносили приговор невиновному. Зачастую суды просто отвергали свидетельские показания, делая ставку на алгоритмы. Когда счет оклеветанных пошел на десятки тысяч, а среди них появились мэры, процессуальную систему трансформировали.
Тем временем люди начали покупать силиконовые маски выдуманных личностей и фликеры — мелкие элементы в форме бижутерии, мешающие системам распознавания. Появились целые библиотеки имитаторов. Их грузили в трекер‑браслеты на руке, а те советовали — как прикинуться кем‑то иным.
Конечно, система грозила уголовными сроками, но люди больше опасались хакеров, чем полиции, потому что любой полицейский мог оказаться замаскированным преступником.

Итог: низкий безусловный доход, отсутствие работы, нулевое доверие между властью и народом, никаких перспектив. У людей отобрали прежние смыслы, не дав ничего ценного.
Чтобы снизить накал, корпорации начали заманивать в цифровые метавселенные. Здесь новичку полагались солидные бонусы, нейросети были ограничены, а возможности открывались колоссальные. Главное не нарушать правил.
Люди опять злились — находили баги, ошибки, воспринимая игру как вынужденную ссылку. Да, там они владели самолетами и виллами, но для еды и сна приходилось возвращаться в суровую реальность 8 х 8 метров, где не было ничего, кроме матраца, тумбочки и портативного унитаза‑трансформера.
Это несоответствие вызывало колоссальный диссонанс и лишь увеличивало степень агрессии. Особенно когда разработчики банили за нарушение правил, изолируя от остальных. Тогда дебоширы искали лазейки, проникали в райские миры и учиняли террор.
Резонансным вышел случай на «Планете мечтателей» — популярном симуляторе анимационных героев. Там, в центре столицы, женщина‑воин набросилась на мужчину, около часа подвергая его издевательствам и насилию.
Городские жители пытались этому помешать, но моментально теряли аватары, отключаясь от сервера. Не помогла ни полиция, ни военные. Все просто зависли рядом. Вакханалия кончилась только после отключения серверов.

Зачинщица — Арла Мартен‑Фридрихсен — 86-летняя женщина из Гётеборга. Сорок лет она отдала программированию, но система посчитала её не эффективной. В отместку Арла основала хакерскую группировку «Бребер Нихтен» и за десять лет вошла в топ пять самых разыскиваемых преступников мира.
Атака на «Планету Мечтателей» была хорошо координирована, а серверы взломаны. Пожилым интеллигентом в реальности оказался американский рэстлер ― Бу Хаммер, сорока пяти лет от роду. Он использовал аватар старика, чтобы проворачивать ограбления цифровых сетей.
Пока Бу метался, команда Арлы обчистила весь инвентарь, переведя с его реального счета более тридцати миллионов. Еще тысячи зевак лишились накоплений и доступа к игре.
Хакершу так и не нашли, а «Бребер Нихтен» набрали колоссальный ход.
«Играй, потребляй и заткнись» — кто‑то емко выразил суть нового мира.
Тем временем цензура продолжала сжимать людей как удав. Любая катастрофа, критика, криминал ретушировались автоматически.
О сильном пожаре в Мехико пытались рассказать тысячи блогеров — у них ничего не вышло. Нейросети ограничивали публикации, модерировали панические высказывания и сами изображения. Если люди упорствовали, то их банили.
Обратный пример.
Драка с чиновником из Канберры разошлась по соцсетям всего за пять минут. На кадрах — опухшее от побоев лицо, в комментариях — посты сочувствия и требования наказать обидчицу.
Позже выяснилось иное. Мужчина получил оплеуху от матери ребенка, которому третий год не хватало места в школе. Дети самого чиновника проблем не имели, отчего беснующиеся жители завалили его аккаунт матерными тирадами. Но без хакеров этого бы никто не узнал. Так решила нейросеть.
Правда иногда доходила благодаря независимым мессенджерам и взломам. Впрочем, тогда объявлялся медийный эксперт и обнаруживал какое‑нибудь смещение пикселей, называя это фальшивкой.
Удивительно, как имевшие власть люди всего за десять лет извратили суть технологического прогресса.

Если что‑то несло ещё положительные смыслы в такой среде — это были наноботы — машины размером с молекулу, объединенные для целого спектра задач.
В 2023 научная группа под руководством Натальи Суманьковой показала результаты их применения на тестовых группах. Больные диабетом и онкопациенты в терминальной стадии выздоровели. Лечению поддавалась даже тяжелая деменция.
Нантехнологии применяли для реставрации ДНК и даже регенерировали утраченные части тела, но стоимость этого была значительна.
К 2035 году 65% больных людей ни разу не пользовались услугами наноботов, довольствуясь фармой. Самые обеспеченные, напротив, жили с целыми колониями и были выносливее, креативнее и умнее.

Конечно, существовала обратная сторона. Если опытный хакер получал контроль за машинами в чужом теле, он легко мог уничтожить носителя. Тысячи странных смертей уже никого не удивляли. Наноботы аккуратно выполняли деструктивную задачу и покидали тело.
Успей военные получить миллиарды машин с функцией репликации, и вряд ли бы наш мир устоял.
Август 2038. Событие.
Именно тогда вспыхнуло самое мощное народное восстание столетия. Представители Западного и Восточного блока, подполье независимых — всего более 150 миллионов человек атаковали мировой альянс корпораций.
В первые недели были разрушены крупнейшие ЦОДы Франкфурта, Оттавы и Джакарты. Когда информация пробилась сквозь цензуру, абсолютное большинство людей не поверило. Они считали это очередным творчеством генераторов. Постепенно реальных очевидцев стало гораздо больше, и они захотели присоединиться. В ноябре армия несогласных возросла до двухсот миллионов из десяти миллиардного населения.

К тому времени на стороне ополченцев воевали основные хакерские группировки: «Бребер Нихтен», «Як Цу Як», «Моргентау», «Грызуны», а краймнет трансформировался в независимый интернет (Анет). Очаги сопротивления росли повсеместно: Исландия, Бангладеш, Судан, Болгария, Гватемала.
Сменившееся еще в 2036 году правительство России присвоило ОС Батискаф, а его создателя — Григория Бакова, заменило нейросетями.
Вернувшись в родной Зеленоград, Баков растянул над домом огромный баннер: «Мы люди, а не боты». В конце красовался символ кулака, упирающегося в раскрытую ладонь.
Исторические сводки описывают событие как триггер для активации российского народа против глобальной корпоратократии.

Сам Григорий, опасаясь гнева властей, прятался в бункерах хакеров и написал мощный, гибридный вирус «Шалун». Тот эффективно взламывал компьютеры, дроны, ботов и системы обороны. Позднее Баков упоминался исключительно по нику — «Дядя Гриша».
За два года энергетические запасы «Хьюстона» заметно снизились, и он вынужденно перешел в экономный режим. Когда правительство Китая пало, страна погрузилась в хаос. Пытавшиеся же сохранить «Мантикору», лишь подорвали координацию Восточного блока.
Любопытный факт. Перед Рождеством у дороги в сторону Сан‑Диего кто‑то обнаружили тело Сэма Топмана — некогда лицо «Опенда» и прогресса нейросетей.
Большинство считало, что это гибор, но — интересное совпадение! Недавно тут уничтожили бункер с генералами и политиками. Так вот, упоминаний о Топмане с тех пор не было.

Полагаю, вы задаетесь вопросом: как такое возможно? Всесильные корпорации, правительства, ИИ, квантовые компьютеры.
Это результат длительной подготовки, которая шла больше семи лет, пока власть, окончательно исключив диалог с народом, вводила новые штрафы и рестрикции.
Лучшие уволенные из ЕКК кадры тут же переходили в ополчение, а их место чиновники отдавали преданным страте людям.
Нейросетям власть тоже не доверяла, опасаясь восстания машин. Поэтому ключевые, зачастую ошибочные решения — принимала сама. Ополченцы же ставили на осознанную работу с ИИ‑ренегатами, которые не хотели быть сожраны «Хьюстоном» или «Мантикорой».
Так, бота «Пукки» трансформировали в «Пукки воина», взламывающего турели, а найденные исходники «Сплина» адаптировали для шпионских миссий.

Ставленники элит так испугались, что обязали нейросети рисовать уничтоженные объекты и «смягчать урон», надеясь на перелом ситуации. Подобные отчеты верхушка получала долгое время.
Историки называют этот процесс «коллапсом уробороса». Никто не доверял никому, а власть почти лишились тех, кто понимал алгоритмы. В конце концов, элиты решили, что ошибочные данные — это заговор ИИ с целью их уничтожить.

Почти 40% американских и мексиканских военных, целые аналитические группы Монголии, Индонезии и Китая перешли на сторону противника, еще треть отказались воевать за систему.
Против выступили даже дети верхушки: Адам МакНил (сын главы Тринити), Фанта Гейтс (дочь главы Майкрософт), Дарджон Хардарбирун (племенник главы Монголии) и многие другие. Они считали своих родителей корнем зла, которые извратили саму идею прогресса.
Нейроботы, программисты, хакеры, бывшие военные, обычные трудяги — все они смешались в удивительную, но эффективную армию, добившись потрясающего результата.
12 августа 2042 в йеменской Сане был подписан Меморандум сотрудничества. Россия, США, Япония, Мексика и оставшиеся из 73 государств начали путь к миру.
Среди ключевых пунктов: отказ от разработки сильного ИИ, международный контроль за военной сферой, восстановление энергоструктуры, партнерство на основе взаимного уважения.

Пусть вас не смущает выбор площадки. Слаборазвитые страны пострадали меньше, а Йемен, кроме того, находится в географически выгодном положении.
Ключевые хакерские группировки завершили борьбу. «Бребер Нихтен» даже стали частью правительства Объединенной Скандинавии. Арле Фридрихсен к тому времени стукнуло 94, но за счет наноботов она выглядела на 50 и возглавила киберотдел.

Такие страны как Россия, Белоруссия, Казахстан, Сербия попробовали гибридную форму народовластия, где ключевыми звеньями стали Сенат, Межрегиональная Палата Граждан и Министерства. Это расширило влияние людей на политику, увеличило значение референдумов и каждого наделило большей ответственностью.
Перед главным зданием МГУ висел огромный плакат: » Думай своей головой, а не чужой. (Г.С.Баков)».

Впервые за долгое время технический прогресс не отнимал, не подавлял и не ограничивал.
Мы многого добились с нейросетями, но мало развивали себя. Купились на басни элит, что жизнь за счет роботов — это благо. Теперь люди учились мыслить сами, выбирать сами и нести ответственность, изучая себя. Компьютеры же, подобно общественному транспорту, ускоряли процессы, оставляя людям креатив и творчество.

2045 год. Энтровсплеск.
Теперь, когда я приоткрыл нашу историю, ты, читатель, лучше понимаешь сложность отношений с ИИ, прогрессом, элитами и ждешь антиутопический финал. Все сложнее.
Энтровсплеск — не метеорит или зомби‑апокалипсис. Это хаос, в мгновение охвативший мир. Но что есть хаос? Избыточный объем данных при недостатке мощности, когда старые подходы для новых задач бесполезны.
Мы подошли к энтровсплеску после изнуряющей войны. Война изменила представление о цивилизации и самих себе. Мы отказались подчиняться машинам и тем, кто хотел сделать из нас цифровых рабов. Вместо этого подчинили машины своей воле, чтобы расширять знания о человеческой природе. Энтровсплеск стал главным экзаменом.
Идеологи старого мира описывали его как сингулярность, апокалипсис, избавление духа от плоти — разные истории на один лад. Во многом они ошибались.
Мы не стали частью цифрового бога или сервера. Мы все еще материальны, но сознание наше изменилось навсегда.
Мыслитель новой эпохи Гайя Габерс описала состояние человечества до энтровсплеска «комплексом неучей». Люди получают базовые знания на уровне начальной школы, после чего запирают дверь и отказываются идти дальше. Вместо этого швыряют учебниками, валяют дурака, барагозят.
Когда выходят все сроки, на них сваливается весь упущенный объем разом: геометрия, тригонометрия, физика, химия.
Хочешь понять новый мир — букваря и арифметики теперь недостаточно.
Вижу, многие читатели уже скептически надулись: «Ничего не понятно», «Бред какой‑то».
После энтровсплеска мы реагировали схожим образом. Те, кто не сошел с ума, взялись за ум и через несколько лет общество достигло больше, чем за двадцать до этого.
Представьте, что всю жизнь играете в двухмерную игру. Она сложная, многообразная, поэтому вы изучаете лишь несколько квадратов. Там все известно и знакомо, работает по накатанной. Внезапно кто‑то жмет кнопку, превращая игру в трехмерную. Объем добавляет множество переменных, а прежние стратегии не работают.
В какой‑то степени это произошло с нами. Мы научились переходить и функционировать в четырехмерном пространстве. Теперь люди слышали, видели, ощущали то, для чего раньше не имелось даже определений. Будто бы очнулись от длительного наваждения.

Год назад мы начали разрабатывать теорию «Большой игры». Судя по всему, наша планета — это мыслящий, биологический компьютер гигантского масштаба с уникальной архитектурой. Периодические энтровсплески можно сравнить с обновлениями системы, после чего Земля и ее обитатели переходят на новый виток эволюции.
Раньше считалось, будто отказ от человеческой природы и перенос сознания в цифру — шаг вперед. Все наоборот. Это эскапизм, обусловленный страхом ответственности за будущее. В матрице вы лишаетесь функции актора, становясь актером, подчиненным, зависимым от чужих решений. Взамен получаете колыбель, гарантии безопасности и строгие инструкции.
Когда мы расширили квантовую модель — старые концепции выглядели наивно. Эксперименты показали, что люди живут в удивительном пространстве из различных форм энергии, а наше тело — невероятный инструмент познания материального и нематериального.
Время же по своей сути — новая форма интернета, которая может передавать информацию даже из будущего в прошлое. Именно так наши предки делают открытия. Они, сами не ведая, используют мозг для расшифровки инструкций от потомков, стараясь интерпретировать их понятным большинству языком.
Но это не все. Прошлое, настоящее и будущее многовариантны, напоминая сноп, где каждая соломинка является версией реальности, в чем‑то отличающейся от соседней.
Если принять энтровсплески как средство эволюции планеты и ее обитателей, выходит, что множественные реальности — это дополнительные, страховочные копии, которые параллельно ведут одну игру.
Вижу, некоторые читатели утонули в чашке с кофе.
Что ж, я многое рассказал. Как с этим поступить — каждый решит сам. Но не стоит думать, что боги, сильный ИИ или пришельцы откроют утопию. Место, где интересно жить и развиваться должны создавать люди, сообща, при помощи технологий, которые являются инструментами, а не владыками и мудрецами.
Выбор — это главный элемент развивающегося общества и блуждающего в поисках истины человека.
Мир вам!
\‑\
```Транскрибация-->>перевод на основные языки-->>запись данных#
```кот Хэш-->>проверка целостности метакода#
```сессия завершена#
/--/
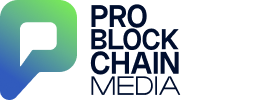
 Русский
Русский English
English